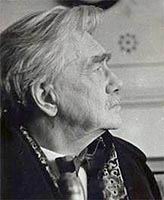Генрих Нейгауз и Святослав Рихтер
Мне уже приходилось слышать Генриха
Густавовича Нейгауза во время одного из его
приездов в Одессу, и я просто влюбился в его
манеру игры — он исполнял сонату «Hammerklavier»
Бетховена — и в то, как он держался. Было что-то в
его лице, очень напоминавшее моего отца, но черты
гораздо мягче. Можно сказать, что у меня было, в
сущности, три учителя: Нейгауз, папа и Вагнер. *** Я многому научился от него, хотя он
неустанно повторял, что ничему не может меня
научить. Мне всегда казалось, что музыка,
созданная для игры и слушания, в словах не
нуждается — всякие толкования по ее поводу
совершенно излишни, — к тому же я никогда не
обладал даром слова. Одно время я вообще был
почти не способен разговаривать, особенно в
обществе, причем среди людей, к которым не
испытывал ни малейшей неприязни, совсем
напротив. Это, в частности, относилось к Генриху
Нейгаузу, рядом с которым я почти всегда
находился на грани немоты. Что было в высшей
степени кстати, ибо мы сосредоточивались
исключительно на музыке. Он прежде всего научил
меня ощущению паузы и певучести. Он говорил, что я
невероятно упрям и делаю, что придет в голову. Это
правда, я всегда играл лишь то, что мне хотелось, а
он давал мне полную свободу. *** В классе Генриха Густавовича моим
большим другом был удивительный юноша Анатолий
Ведерников. Моложе меня на пять лет, он был
вундеркиндом. Когда в 1937 году я приехал в Москву,
ему было семнадцать лет, он уже учился у Нейгауза
и божественно играл. Его родители, очень
известные певцы, уехали из России в Японию, где он
весьма успешно выступал в качестве вундеркинда.
Затем они перебрались в Китай и бросили его там
из-за какой-то романтической истории. Его
приемные родители не принадлежали к музыкальной
среде. Они решили вернуться в Советский Союз, где
их, естественно, арестовали, в тот самый год,
когда я приехал в Москву. Темная история, каких
немало было в те времена. Мы сразу же подружились
с Ведерниковым. Я не имел пристанища, и он,
случалось, давал мне приют на ночь. Он был
замечательный пианист, и я с великим
удовольствием играл с ним, играл нередко. Перед
самым началом войны, в 1941 году, мы, если мне не
изменяет память, играли на радио с Куртом
Зандерлингом за пультом — он был тогда еще очень
молод, и это была моя первая встреча с великим
дирижером — концерт Баха для четырех фортепиано.
Другими исполнителями были Эммануил Гроссман,
один из ассистентов Нейгауза, и Теодор Гутман,
один из первых учеников Нейгауза, получивший
первую премию на конкурсе Шопена в Варшаве и уже
преподававший в консерватории. Вместе с
Ведерниковым мы присутствовали не на одном из
его сольных концертов. Он был бесподобным
исполнителем Шопена, одним из лучших, каких я
когда либо слышал. Помимо прочего, он
феноменально исполнял этюды, и я никак не могу
взять в толк, почему он остался в тени. *** Есть русская поговорка: «Не имей сто
рублей, а имей сто друзей». Она не лжет. Куда бы я
ни пришел, даже в самый разгар войны, всюду
находилась для меня картофелина на ужин. Меня
совершенно не заботило, что я не имел пристанища.
Ночевал у кого придется: у Анатолия Ведерникова,
Володи Чайковского, математика Шафаревича. У
всех мне было очень хорошо. Но главное, в
продолжение многих лет я находил приют у
Нейгауза. Это был человек удивительной душевной
щедрости, ученики могли нагрянуть к нему как снег
на голову хоть в четыре часа утра. Да и жена у него
была женщина поразительная, удивительно
гостеприимная. Она вообще не спала. Когда к ней
заявлялись в глухую ночь гости, она пила либо чай,
либо вино. Она была в восторге, когда кто-нибудь
приходил, а он спрашивал: «Вам негде
переночевать? Так ложитесь у нас». А квартирка у
них была крошечная. Святослав РИХТЕР *** Из книги «Бруно Монсенжон. Рихтер. Диалоги. Дневники. – М. Классика-XXI, 2003, c. 41-49
|