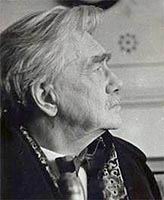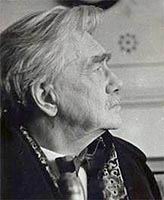 |
Из
ЧАШИ БЫТИЯ |
 |
|
Музыка
и Генрих НЕЙГАУЗ |
Проект Юрия
Любовича и Александра Чуднова
Октябрь 2004 года |
|
|
Б. Пастернак
БАЛЛАДА |
Зинаиде Николаевне
Нейгауз |
|
|
На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.
Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льет дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.
Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.
Льет дождь. Я вижу сон: я взят
Обратно в ад, где все в комплоте,
И женщин в детстве мучат тёти,
А в браке дети теребят.
Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взят в науку к исполину,
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.
Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте.
Как на плотах,— кустов щепоти
И в каплях потный тес оград.
(Я видел вас раз пять подряд.)
Спи, быль. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.
г. Ирпень, конец августа 1930 г. |
|
 |
| Зинаида НЕЙГАУЗ
(30-е годы) |
|
|
Б. Пастернак
БАЛЛАДА |
Генриху Густавовичу
Нейгаузу |
|
|
Дрожат гаражи автобазы,
Нет-нет, как кость, взблеснет костел.
Над парком падают топазы,
Слепых зарниц бурлит котел.
В саду — табак, на тротуаре —
Толпа, в толпе — гуденье пчел.
Разрывы туч, обрывки арий,
Недвижный Днепр, ночной Подол.
«Пришел»,— летит от вяза к вязу,
И вдруг становится тяжел
Как бы достигший высшей фазы
Бессонный запах матиол.
«Пришел»,— летит от пары к паре,
«Пришел»,— стволу лепечет ствол.
Потоп зарниц, гроза в разгаре,
Недвижный Днепр, ночной Подол.
Удар, другой, пассаж,— и сразу
В шаров молочный ореол
Шопена траурная фраза
Всплывает, как больной орел.
Под ним — удар араукарий,
Но глух, как будто что обрел,
Обрывы донизу обшаря,
Недвижный Днепр, ночной Подол.
Полет орла, как ход рассказа.
В нем все соблазны южных смол
И все молитвы и экстазы
За сильный и за слабый пол.
Полет — сказанье об Икаре.
Но тихо с круч ползет подзол,
И глух, как каторжник на Каре,
Недвижный Днепр, ночной Подол.
Вам в дар баллада эта, Гарри.
Воображенья произвол
Не тронул строк о вашем даре:
Я видел все, что в них привел.
Запомню и не разбазарю:
Метель полночных матиол.
Концерт и парк на крутояре.
Недвижный Днепр, ночной Подол.
1930 г. |
***
Фрагмент из
воспоминаний
Зинаиды Николаевны Пастернак,
записанных в 1962—1963 гг. |
|
[...] В 1927 году родился сын
Станислав. Мы жили вчетвером в одной комнате.
Дети спали за занавеской, а по другую ее сторону
стояли два рояля. Приходили бесконечные ученики,
и в доме не смолкая гремела музыка. Из Ленинграда
приезжал гостить на две недели Горовиц, не
закрывал рояля по двенадцать часов в день. Мы
иногда играли с ним в четыре руки, я получала
большое наслаждение. Часто играли мы в четыре
руки и с Генрихом Густавовичем, этим
ограничивались мои занятия музыкой — заботы и
радости материнства отнимали все мое время. В
этой комнате на Поварской мы прожили около шести
лет, а в 1928 году переселились в трехкомнатную
квартиру в Трубниковском переулке. [...]
[1930]
[...] За две недели я собралась, и с
двумя детьми (Адику было четыре года, Стасику —
три года), с нянькой и горшками мы тронулись в
путь. Вместе с нами выехали в Ирпень Асмусы.
Записаны были адреса всех дач, кроме нашей, и мы
долго кружили вокруг нее на подводе. Генрих
Густавович сердился. Как всегда, пришлось искать
в Киеве рояль для Генриха Густавовича и
перевозить его на подводе в Ирпень.
Дачи А. Л. и И. Н. Пастернаков и наша
были рядом, а Б. Л. Пастернаку с женой я намеренно
сняла подальше. Не помню уже точно, что побудило
меня это сделать — вернее всего ощущение
опасности для меня частого с ним общения. Через
две недели приехал Борис Леонидович.
Первая наша встреча на даче была
смешная. Босая и неприбранная, я мыла веранду, и
вдруг подошел Борис Леонидович. Я была удивлена,
когда он сказал: «Как жаль, что я не могу вас снять
и послать карточку родителям за границу. Как бы
мой отец-художник был бы восхищен вашей
наружностью!» Мне казалось, что он смеется надо
мной, и я выразила ему недоверие.
[...] Я любила собирать хворост в
лесу, и однажды он зашел ко мне и предложил свою
помощь. Он так увлекся этим занятием, что
собранного им топлива нам хватило на все лето.
Меня удивило, что он умеет все хорошо делать. Мне
казалось, что такой большой поэт не должен быть
сведущим в бытовых и хозяйственных делах. Генрих
Густавович, например, утверждал, что предел его
ловкости — умение застегнуть английскую
булавку. Когда в гражданскую войну Генриху
Густавовичу пришлось однажды поставить самовар,
то он насыпал уголь туда, куда наливают воду, а
воду налил в трубу. Своей хозяйственной
деятельностью он вызывал восстание вещей. Я была
сконфужена, когда Пастернак тащил ко мне вязанки
хвороста. Я уговаривала его бросить, и он спросил:
«Вам стыдно?» Я ответила: «Да, пожалуй». Тут он мне
прочел целую лекцию. Он говорил, что поэтическая
натура должна любить повседневный быт и что в
этом быту всегда можно найти поэтическую
прелесть. По его наблюдениям, я это хорошо
понимаю, так как могу от рояля перейти к
кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат
настоящей поэзией. Он рассказал, что обожает
топить печки. На Волхонке у них нет центрального
отопления, и он топит всегда сам, не потому, что
считает, что делает это лучше других, а потому,
что любит дрова и огонь и находит это красивым.
Тогда я думала, что он мне
подыгрывает, но в последующей жизни я убедилась,
что это черта его натуры. [...]
[...] Вечерами собирались и слушали
музыку. Борис Леонидович просто обожал игру
Генриха Густавовича, а Нейгауз был влюблен в его
стихи и часто читал мне их вслух наизусть,
пытаясь приобщить меня к ним.
Однажды он выступал в Киеве, играл
ми-минорный концерт Шопена для фортепиано с
оркестром. Надвигалась гроза, сверкали молнии.
Концерт был назначен в городском саду под
открытым небом, и мы волновались, не разбежится
ли публика, но дождь хлынул после его исполнения.
Посвященное Нейгаузу стихотворение Бориса
Леонидовича «Баллада» навеяно этим концертом.
[...]
Вскоре после приезда в Москву
Пастернак пришел к нам в Трубниковский. Он зашел
в кабинет к Генриху Густавовичу, закрыл дверь, и
они долго беседовали. Когда он ушел, я увидела по
лицу мужа, что что-то случилось. На рояле лежала
рукопись двух «Баллад». Одна была посвящена мне,
другая — Нейгаузу [...]
[...] В ЗАГСе меня спросили, какую
фамилию я хочу носить. Из-за детей я хотела
оставить фамилию Нейгауз, но Борис Леонидович
отвел меня в сторону и сказал, что он суеверен,
что не может с этим согласиться и просит меня
быть Пастернак. Мне пришлось вернуться и заявить,
что я передумала.
Теперь все наладилось. Детей я
устроила в детский сад. Борис Леонидович много
работал, писал стихи, переводил. Часто приезжали
грузины, и у нас устраивались вечера на двадцать
пять человек. [...]
[...] Вначале с Адиком все было
благополучно, и ему разрешили ходить в школу, но
осенью 37-го года, когда ему было двенадцать лет,
он стал плохо себя чувствовать, бледнеть и
хиреть. С ним было трудно: он был очень живой по
характеру и неудержимо тянулся ко всяким
физическим занятиям. Он и Стасик были совершенно
разные по характеру. У Стасика довольно рано
проявились большие способности к музыке. В общую
школу мы его пока не отдавали, и он учился в
музыкальной школе Гнесиных. Он делал большие
успехи, в десять лет он уже участвовал в
концертах в музыкальной школе. Занимался он с
преподавательницей Листовой, удивительно
умевшей подойти к детям.
31 декабря 37-го года я почувствовала
приближение родов. Новый год мы сговорились
встречать у Ивановых в Лаврушинском. Но в семь
часов вечера Боря отвез меня в больницу имени
Клары Цеткин. Это было привилегированное
учреждение, палаты были на одного человека, и на
каждом столике стоял телефон. Боря звонил мне
очень часто, и часов в десять вечера я попросила
его забрать меня домой и дать встретить Новый
год: как мне кажется, я буду рожать через два-три
дня. Он сказал, что я сошла с ума, и велел мне
лежать спокойно. Как только он повесил трубку, я
почувствовала, что он был прав. Ровно в
двенадцать под бой часов родился сын. Это
произвело сенсацию в больнице: за сорок лет ее
существования такого случая еще не было. [...]
Заранее было решено, что если родится девочка, ее
назовут Зинаидой, а если мальчик, то он будет
назван в честь деда Леонидом. [...]
Литературная
запись 3. А. Масленниковой.
| Сopyright © Фонд
«Поддержки хорового искусства» – Кировоград, 2004 |
|